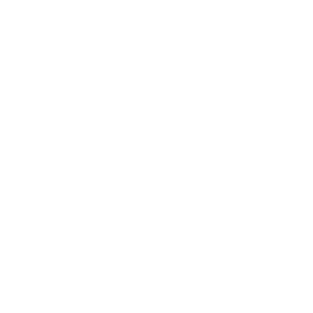“Думать внутри, а не снаружи”, сделать интерпретацию слышимой.
Глава 6, книга "Being Alive Building on the Work of Anne Alvarez"
Автор: Питер Блейк
Перевод: Юлия Фишер
Глава 6, книга "Being Alive Building on the Work of Anne Alvarez"
Автор: Питер Блейк
Перевод: Юлия Фишер
Энн Альварес расширила концепцию контейнирования, выделив ее стимулирующие и оживляющие свойства, которые являются неотъемлемой характеристикой и всей ее работы. Название ее книги "Живая компания" подчеркивает важность этого живительного качества. Оно необходимо для того, чтобы пробудить и поддержать тех пациентов, для которых мертвенность стала способом жизни. Однако это оживление - не только стимулирующее присутствие, ведь оно должно сопровождаться чутким осознанием того, сколько жизненности может вынести пациент. Постоянное внимание к тому, с чем может справиться пациент, является важнейшей составляющей “живой” компании Альварес.
"В этой главе мы сосредоточимся на этой особенности ее работы, сосредоточив внимание на ее концепции “способности к слушанию". В ней мы рассмотрим, насколько терапевту необходимо играть с интерпретацией, особенно с интерпретацией переноса, чтобы сделать ее более слышимой и, следовательно, более мыслимой. Основной тезис будет заключаться в том, что интерпретации предлагаются слишком охотно и решительно, и необходимо больше думать о том, какой должна быть дистанция и температура интерпретации, по терминологии Мельтцера (Meltzer, 1976). Если она будет слишком близкой или слишком горячей, она будет ошеломлять и восприниматься как травмирующая, а если она будет слишком далекой и холодной, то не окажет никакого воздействия на пациента. "Услышанность" (Alvarez, 1992) интерпретации будет рассмотрена в контексте работы с детьми и использования игровой техники.
Альварес последовательно рассматривает этот вопрос, ставя под сомнение традиционную кляйнианскую технику интерпретации - ранней, глубокой и направленной на область наиболее острой тревоги (см. Alvarez, 1985, 1988, 1992, 1996; Alvarez et al., 1999; Alvarez and Reid, 1999). Она подняла много вопросов о целесообразности скорости и типа интерпретации, который мы предлагаем нашим пациентам. Она утверждает, что некоторые дети не обладают достаточной силой эго, чтобы быть способными услышать и осмыслить свои тревоги, если давать им стандартные интерпретации. Ее опыт, как и мой, показывает, что у некоторых детей само упоминание о тревоге вызывает еще большую тревогу — это не открывает дверь к бессознательным констелляциям ни сейчас, ни в будущем. Кроме того, она считает, что аналитики рискуют слишком зациклиться на прошлом и настоящем и не уделять достаточно внимания будущему. Очевидно, что для детей эта "предвосхищающая" идентификация, как она ее называет (Alvarez, 1992), особенно важна. Это также влияет на стиль ее интерпретаций. Высказывание вроде "Ты переживаешь, что останешься один в выходные" сильно отличается от "Трудно поверить, что мы снова встретимся в понедельник". Здесь сосредоточенность на будущем помогает отдалиться от пугающего настоящего, а также укрепляет надежду. Альварес также играет с тревогой или модулирует ее, больше концентрируясь на потребности, стоящей за ней. Опять же, высказывание "Ты показываешь мне, как важно быть большим" дает больше пространства для мысли, чем основанная на тревоге интерпретация "Ты беспокоишься о том, что ты маленький". Такой способ интерпретации создает больше пространства между ребенком и его тревогами, в то же время признавая их существование. Это дает больше возможностей для игры, не отрицая при этом работу.
В недавнем "Симпозиуме по фрустрации" Альварес подкрепляет эту точку зрения, говоря: "Фрустрация способствует развитию мышления только тогда, когда она не выходит за пределы выносимого и мыслимого; в противном случае травма и отчаяние могут привести к диссоциации и когнитивным расстройствам" (Alvarez et a/., 1999: 184).
Идеи Альварес вытекают из долгой истории размышлений о том, когда, в каком объеме и каким образом мы должны совершать интерпретации. Начало можно найти в самых ранних формулировках Фрейда, опубликованных в 1895 году в “Проекте научной психологии” (Freud, 1895) и позже в “По ту сторону принципа удовольствия” (Freud, 1920). В этих работах он говорит, хотя и в биологических терминах, о необходимости защитного аппарата или экрана, чтобы система не перегружалась и не травмировалась. Выражаясь языком Фрейда, защитный экран гарантирует, что система не будет перевозбуждена "периодическими катексисами и декатексисами системы восприятия-сознания (perception—consciousness)" (Freud, 1920). То есть система просто берет образцы внешнего мира. Об этой выборке мира можно думать в терминах предоставления пациентам проб интерпретаций - не для того, чтобы дать всю дозу, а чтобы определить правильную дозировку. С детьми этого можно добиться, удерживая тревоги внутри игры.
Идея о том, чтобы не перегружать пациента, была использована Винникоттом в его концепции третьей области, промежуточного пространства, и в его акценте на игре. В книге “Использование объекта" (Winnicott, 1971) он подчеркивает, что младенец способен использовать мать в качестве объекта, чтобы чувствовать, что это он ее стимулирует/возбуждает (ercated), а не наоборот. Из этого первоначального всемогущества и последующего постепенного разочарования у младенца может развиться истинное чувство селф. Он отмечает, что переходный объект - это первое “не-я” владение младенца, а не его первый “не-я” "объект". Младенец должен ощущать свою причастность, так же как и пациент должен чувствовать, что он причастен к интерпретации и помог ее создать. Винникотт подчеркивает важность создания игрового пространства как для терапевта, так и для пациента. С этой позиции они могут найти интерпретацию, а не пациент почувствует, что она ему дана.
Цитируя Винникотта:
только в последние годы я стал способен терпеливо ждать естественной эволюции переноса, возникающей в результате растущего доверия пациента к психоаналитической технике и сеттингу, и избегать нарушения этого естественного процесса интерпретациями. Следует заметить, что я говорю о создании интерпретаций, а не об интерпретациях как таковых. Меня ужасает мысль о том, сколько глубоких изменений я предотвратил или отсрочил у пациентов определенной калегории из-за своей личной потребности в интерпретации. Если только мы сможем подождать, пациент придет к пониманию творчески и с огромной радостью, и теперь я наслаждаюсь этой радостью больше, чем раньше наслаждался ощущением того, что я умный. Я думаю, что интерпретирую главным образом для того, чтобы дать пациенту понять пределы моего понимания. Принцип заключается в том, что ответы есть у пациента и только у него.
Модель контейнирования, предложенная Бионом, также полезна при рассмотрении вопроса о том, следует ли давать интерпретацию, а также о том, когда ее следует давать. Он подчеркивает взаимодействие между контейнером и контейнируемым и поднимает вопрос о том, как далеко должна пройти проекция, прежде чем ее можно будет считать безопасно изгнанной (Bion, 1962). Другая сторона этой модели, а именно функция контейнера, подчеркивает необходимость не только удерживать, но и вовремя подавать обратно детоксицированную проекцию. Недостаточное сдерживание тревоги из-за слишком быстрой интерпретации может привести к клиническим катастрофам, поскольку для пациента и терапевта не было создано безопасного пространства для игр.
Клинический пример этого процесса произошел с тринадцатилетним мальчиком, который сильно переживал по поводу своих гомосексуальных чувств. Такие чувства угрожали подавить его хрупкое представление о сексуальной идентичности, и от них пришлось отказаться. Во время терапии я чувствовал, что эти чувства проективно идентифицируются в меня, когда он обвинял меня в том, что я гребаный педик. Он презирал меня и воспринимал как ужасную угрозу. Он часто кричал: “Ты гребаный педик Блейк, я убью тебя”. Под таким натиском я отвечал, что понимаю, как он напуган своими гомосексуальными чувствами. Подобные интерпретации привели к тому, что я подвергся физическому нападению. Такие интерпретации не позволяли ему чувствовать, что его импульсы надежно приютились во мне. Оглядываясь назад, можно сказать, что интерпретация, называющая тревогу так, как он ее испытывал, - то есть что гомосексуалист находится во мне и представляет собой ужасную угрозу для него, - была бы более полезной, или, возможно, лучше было бы вообще не интерпретировать, а подумать о его ужасе от ощущения такого нападения.
Еще одним фактором, повлиявшим на понимание интерпретации, стала практика наблюдения за младенцами (Miller et al., 1989). Возможно, больше, чем любой другой опыт, это привело к более глубокому осознанию терапевтической ценности вдумчивого наблюдения и поставило вопрос о том, всегда ли необходимо интерпретировать. Может ли быть терапевтическое изменение без интерпретации, конечно, мы все знаем, что может. Возможно мы интерпретируем слишком много? Может быть, разумное использование роли “внимательной аудитории” иногда более уместно? Дает ли это больше пространства нашим пациентам, а также позволяет ли им чувствовать, что они создают пьесу — что это их творение, а не наше?
О том, как долго интерпретация должна удерживаться в сознании терапевта и не передаваться пациенту, мы можем узнать, обратившись к тому, что нам известно из младенческого опыта удержания и вскармливания. Дилис Доус в своей статье "Опасности близости? (Daws, 1997) рассказывает об опасности слишком близкого контакта в ситуации кормления. Для некоторых младенцев близость может восприниматься как травмирующее вторжение. Обсуждая, как нужно держать младенца на руках, она отмечает: ”Установление дистанции может быть решающим способом управления эмоциональными проблемами" (Daws, 1997: 180). Из наблюдений за младенцами мы знаем, что увеличение расстояния между матерью и ребенком в период отлучения от груди парадоксальным образом может позволить некоторым кормящим парам быть более близкими (Блейк, 1988; Доус, 1997; Люббе, 1996). Кроме того, увеличенное расстояние в это время способствует развитию у ребенка способности к символизации и игре.
Предоставление игрового пространства в клинической обстановке для общения с пациентом, вместо того чтобы давать прямую интерпретацию, показано в работе Пола и Томсон-Сало с матерями и их младенцами (Paul and Thomson- Salo, 1997). Они отмечают, что изначально были озадачены тем, почему они не давали много интерпретаций переноса, но затем пришли к выводу, что их вдумчивое использование проекций матерей и младенцев позволило матерям “найти ответы внутри себя”.
Столетие назад психоанализ почувствовал, что должен найти ответы на эти вопросы. Ранние терапевтические амбиции Фрейда (Freud, 1895) привели к решительным интерпретациям. Более глубокое понимание сложности психики и хрупкости терапевтических отношений привело к большей чувствительности в использовании интерпретаций. Работа Альварес с аутичными, пограничными и депривированными детьми и ее фокус на том, что может быть услышанным и обдуманным, продолжает оттачивать аналитическую технику. Ее работа, наряду с работой других клиницистов, таких как Винникотт (1971), Кейсмент (1985), Клаубер (1986), Розенфельд (1987), Ломас (1987), Джозеф (1989), Стайнер (1993) и Бриттон (1998), заставили терапевтов задуматься о том, следует ли им давать интерпретацию, и если да, то должна ли она включать перенос? В какой степени интерпретация должна быть сосредоточена на процессе или содержании? Должна ли она быть клиент- или пациент- центрированной? Должна ли она концентрироваться на потребности или тревоге? Как много интерпретаций следует дать? Можно ли смягчить ее так, чтобы сказать о тревогах, но не переполнить?
Эта проблема попала в поле моего внимания несколько лет назад, когда я наблюдал восьмилетнего мальчика по имени Стивен. Его направили в психотерапию из-за агрессивного поведения дома и в школе. Он был единственным ребенком богатой пожилой пары. Его мать страдала от депрессии после его рождения, и оба родителя сказали, что считают себя слишком старыми, чтобы играть с ним. После нескольких месяцев терапии я почувствовал, что процесс полностью заблокирован. Его сеансы были полны презрения к любой моей интерпретации. Он казался мне трудным, почти психопатичным ребенком, и я боролся с чувством неприязни к нему. Однако за один сеанс все изменилось довольно кардинально. На этом сеансе он начал играть с шариком из пластилина. Он привязал к мячу бечевку и начал размахивать ею. Затем он забросил мяч на высокий выступ, как будто ловил рыбу. Он опускал мяч и осматривал скопившуюся на нем пыль. Он проделал это несколько раз. Через некоторое время я обнаружил, что участвую в игре и выступаю в роли пылинки. Довольно высоким голосом я рассказал о том, что меня выгнали из моего дома, что я хотел бы остаться с остальными членами моей семьи пылинок. В отличие от всех других попыток коммуникации, к этой Стивен прислушался. В самом деле, казалось, он получал от этого искреннее удовольствие, а не саркастическое или насмешливое. В то время я не был уверен, почему я говорю в такой манере и почему говорю именно эти вещи. Это чувствовалось гораздо более спонтанно и живо, чем озвучивание переработанной контрпереносной реакции. Стивен продолжал играть с пластилином и через некоторое время спрашивал меня: “Что он теперь говорит?" Что было самым замечательным, так это перемена в Стивене. Он задавал эти вопросы, как маленький ребенок, одновременно наслаждаясь игрой и проявляя любопытство. Насмешливый, высокомерный псевдовзрослый тон в нем исчез. Далее я обнаружил, что во мне произошла перемена. Оказавшись в роли пылинки, я начал говорить о том, что я всего лишь пылинка, такая маленькая, такая никчемная и такая нежеланная. Говоря это, я начал понимать, сколько уязвимости и боли скрывалось за его жестким, надменным "я". Пока я не начал говорить таким образом, я этого не понимал. Я обнаружил в игре, и я не уверен, была ли это его игра или моя, ту сторону Стивена, которая оставалась скрытой от нас обоих.
После нескольких сеансов участия в игре, а не ее интерпретации или, возможно, более точной интерпретации в игре, стало ясно, насколько Стивену понравилось, как я играю с ним, и мне это тоже понравилось. Теперь мы оба были полны возбуждения и энергии, пока он продолжал играть, и я задавался вопросом, что бы я мог сказать этим высоким голосом. Теперь мы были живой парой. Обычно в игре я говорил о какой-либо форме беспокойства или вины, например: “О, что сейчас происходит, я не знаю, когда снова увижу свою семью”. (После этой сессии я обнаружил, что ему угрожала отправка в школу-интернат). Чаще всего я обнаруживал, что играю роль пассивного персонажа, того, с кем что-то делают, хотя были моменты, когда я говорил от имени того, кто совершает действие (например, я становился машиной, сбивающей животное, а не животным, которое сбивают). Иногда я высказывался от имени обеих сторон процесса. Я никогда не был уверен, что именно определяет, с каким персонажем я буду себя идентифицировать, хотя я подозреваю или, возможно, надеюсь, что я улавливал послание от Стивена по этому поводу. Что было ясно, так это то, что я всегда был активен. В его игре особенно подчеркивались глаголы. Участие в игре давало мне свободу называть действия, а не быть слишком обеспокоенным тем, кто и что с кем делает. Легкость проекции в игре уменьшает это различие между субъектом и объектом. Проекции могут перемещаться в игре.
Я полагаю, что это изменение в технике сработало со Стивеном по нескольким причинам. Учитывая его историю жизни с матерью, находящейся в депрессии, то, что он не играл со взрослыми и не был окружен ими, мои “формальные” интерпретации, которые я давал с позиции наблюдателя, воспринимались как слишком далекие. Он ненавидел это расстояние. В другое время мои интерпретации воспринимались как критические и принижающие. В такие моменты он в ответ унижал меня своим презрением. Мое участие в игре позволило нам быть вместе в этом третьем – промежуточном - пространстве. В этом, несомненно, был элемент удовольствия для нас обоих. Все ощущалось не таким серьезным. Игра нейтрализовала интенсивность переживаний. Она не была слишком близкой, поэтому ее можно было не отрицать и не атаковать. Это также позволило Стивену почувствовать, что его материал и он сам могут быть источником веселья и удовольствия. Я воспринимал и относился к его дарам как к драгоценности. Я всегда заботился о том, чтобы не руководить его игрой. Я сознательно старался придерживаться материала, который он мне давал, хотя, участвуя в игре, терапевт открывает для себя гораздо больше уровней общения с ребенком. Когда я развивал его темы, мне все равно казалось, что я расширяю то, что было в первую очередь его творением. Особенно для детей, которые так привыкли к тому, что их учат взрослые, интерпретация может легко восприниматься как создание терапевта. Хотя всегда есть риск взять игру на себя, я думаю, что детские терапевты стали слишком осторожны в этой области и, наоборот, рискуют потерять связь с ребенком внутри себя или стать слишком взрослыми.
Такая техника включения в игру является одним из способов регулировать дистанцию и температуру между терапевтом и пациентом. С одной стороны, это отвлекает и терапевта, и ребенка от прямого контакта друг с другом, но с другой стороны, это может позволить им быть очень близкими в безопасной игровой обстановке. Даже когда я не участвую в игре, а просто думаю о ней, я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, каково было бы быть этим листком бумаги, который рвут, или куском веревки, за которую дергают. Я нахожу, что это помогает мне настроиться на ребенка.
Участие в игре также снижает накал переноса. Во время игры я не делаю никаких указаний на перенос. Это не значит, что я не принимаю во внимание перенос, но работаю в нем, а не над ним.
По моему опыту, участие в игре особенно полезно для детей младше пяти лет. Это также может быть полезно для некоторых обсессивных детей, которые не очень сильно боятся эмоций. Они могут наслаждаться своей игрой, когда терапевт придает ей эмоциональность, но при этом оставаться в состоянии дистанцироваться от нее.
Вместо того чтобы участвовать в игре, терапевт может еще больше ослабить тревогу, комментируя чувства, которые могут быть в ней заложены. Приведем пример из повседневной жизни: ребенок режет пластилин: возможный комментарий: "Если бы я был пластилином, я бы чувствовал себя кусочками", или чуть более игривый: "Я думаю, что пластилин чувствует себя разбитым по кусочкам". Интересно отметить, что даже сама Мелани Кляйн, которая так ратовала за интерпритацию, близка к этой идее в своем случае с Рут. Эта четырехлетняя девочка страшно боялась оставаться одна в комнате с Кляйн и некоторое время входила туда только со своей старшей сестрой. При таком уровнем дистресса Кляйн решила интерпретировать через игру. Я цитирую:
Все это время я начинала с того, что применяла свои интерпретации к кукле - показывала ей, когда играла с ней, что она боится и кричит, и объясняла причину, - а затем повторяла интерпретации, которые давала кукле, применяя их к ней самой. Таким образом, я определила аналитическую ситуацию во всей ее полноте.
Теперь у меня возникли бы сомнения в необходимости или скорости применения таких интерпретаций к ее персоне.
Для некоторых детей даже комментирование своих чувств в игре может оказаться чрезмерным. Здесь более “техническое” или реальное обсуждение может быть настолько близким, насколько это позволит ребенок. Продолжая пример с пластилином, можно сказать, что обсуждение того, как изготавливается пластилин или с какой легкостью его можно разрезать и отделить друг от друга, может быть таким же жарким, как и интерпретации этого. Я провел много сессий, рассказывая о таких вещах, как технические детали тормозов и передач на велосипедах, как работает вулкан, жизнь рака-отшельника и так далее. По-видимому, это особенно верно в отношении детей латентного возраста и подростков. В этой ситуации терапевт должен быть способен выдерживать эту дистанцию — сдерживать свои собственные терапевтические амбиции. Сохранять веру в то, что можно думать о тревогах в символической форме, без какого-либо явного терапевтического сопровождения или вмешательства, может быть чрезвычайно трудно, особенно если ребенок посещает терапевта раз в неделю, и еще труднее в частной практике, когда речь идет об оплате.
По моему опыту, есть небольшая группа детей, которые не выносят даже безопасных и не-вторгающихся комментариев: спросить о пластилине или шестеренках на велосипеде было бы чересчур. Любой комментарий может показаться вторжением, но такие дети, похоже, с удовольствием рисуют или рассказывают вам о школе, музыке, спорте и так далее. По-видимому, это наиболее распространено в группе ранних подростков, в возрасте от 12 до 14 лет. Здесь тревоги кажутся настолько сырыми и сильными, что даже прикосновение к ним на символическом уровне оказывается слишком сильным (Waddell, 1993).
Дэвид был двенадцатилетним мальчиком, с которым мы встречались три раза в неделю в течение четырех лет. В течение первых двух лет терапии он заполнял сеансы драматическими рассказами о фильмах, телешоу, поп-звездах и так далее. Если я пытался задавать какие-либо вопросы или делать замечания, он либо игнорировал их, либо вежливо просил меня заткнуться. Обычно после какого-нибудь моего замечания его материал ускорялся еще больше. Он терпеть не мог, когда ему мешали, и каждую песню или историю должен был закончить без перерыва. На одном из сеансов, после того как я прокомментировал что-то, он сказал: “Думайте внутри, а не снаружи”. Я чувствовал, что он хочет, чтобы я думал, что я должен быть чем-то большим, чем просто туалетная грудь (Meltzer, 1967), но я определенно не должен был быть кормящей грудью. Первые два года я чувствовал, что мне нужно быть его аудиторией, но я думаю, что одного этого было бы недостаточно. Ему нужна была думающая аудитория, и когда это произошло, его анализ продолжился во мне. Интерпретации или даже интерпретативная деятельность (вопросы, комментарии) были неуместны. Мне буквально пришлось заткнуться и подумать. На большинстве сеансов он ничего не говорил. (Должен сказать, что мне было приятно слышать, что его поведение за пределами сеансов улучшалось.) Важное различие, которое Стайнер проводил между пониманием и тем, чтобы быть понятым (Steiner, 1993), помогает поддерживать эту “мыслящую аудиторию”.
Дэвид происходил из непростой среды. Как и у Стивена, у его матери была депрессия и ранний отказ от ребенка, и я чувствовал, что с ним не играли в раннем возрасте. Однако мои попытки поиграть с ним казались мне вторжением и отрицанием его самого. Его чувство селф было очень хрупким, и это ощущение хрупкости усилилось в ранний подростковый период. Я чувствовал, что он показывает мне, что ему нужно дать играть самому. Я должен был стать свидетелем и ценителем этой пьесы, чтобы она была подлинной, чтобы она действительно была его. Мой комментарий, каким бы полезным он ни был, не позволял его мыслям стать полностью его собственными. Я помню, как думала про себя, что неважно, насколько безумны или запутаны эти мысли, - они его. Моя попытка преждевременно модифицировать их лишала их самой сути.
В течение этих двух лет у меня были периоды, когда я с трудом удерживался в роли думающей аудитории. Был ли я слишком мягок, слишком пассивен, вступал ли я в сговор, не конфронтируя его тревоги? На третьем году терапии ситуация начала меняться. Его истории становились все более понятными, как в их изложении, так и в символическом содержании. Они также стали более четко соотноситься с ним самим, хотя по-прежнему оставались символическими. Часто он пел такие песни, как “Я никогда не хочу чувствовать себя так, как в тот день, когда я пошел туда один” группы Red Hot Chilli Peppers и “Это наше последнее прощание’ Джеффа Бакли. В это время он говорил: “Это не обо мне“. Мы оба знали, что это так. Я просто смотрел и улыбался. ‘Терапия получила дальнейшее развитие, когда после песни или рассказа он проводил то, что он называл ‘периодом размышлений”, рассказывая мне, о чем, по его мнению, шла речь. Вскоре после этого он спрашивал о моем отражении. После этого наступил период, когда он очень заинтересовался психологией, особенно Фрейдом. Однажды он спросил меня: “Это все от него?” Теперь, когда он что-то делал, он сам интерпретировал это, говоря, что это то, что сказал бы по этому поводу психиатр. Я почувствовал, что теперь можно думать о чем-то постороннем, и именно после этого этапа терапии можно было признать и обсудить мысли и переживания по поводу наших отношений. Он не позволил мне самому собрать перенос (Meltzer, 1967), мне пришлось ждать этого.
Если проанализировать мой опыт работы в качестве мыслящего зрителя для Дэвида и в игре со Стивеном, то становится ясно, что в обоих случаях формальное взаимодействие переживалось как навязчивое и травмирующее. Мне приходилось бороться за то, чтобы найти способ сделать интерпретации слышимыми, чтобы мысли между нами в конце концов стали переносимыми. Размышляя над этой клинической трудностью, идея Бриттона о триангулярном пространстве оказалась чрезвычайно полезной. В книге "Вера и воображение" (Britton, 1998) он связывает эту идею с субъективностью и объективностью. Он предполагает, что в самые трудные периоды развития мать и младенец находятся в единстве друг с другом, и между ними существует только субъективность. С появлением осознания “другого" (которое он связывает с самой ранней эдиповой ситуацией) появляется способность к развитию триангулярного пространства. Цитируя Бриттона:
Если в сознании ребенка связь между родителями, проявляющаяся в любви и ненависти, может восприниматься терпимо, это дает ему прототип объектных отношений третьего рода, в которых он или она является свидетелем, а не участником. Затем возникает третья позиция, с которой можно наблюдать объектные отношения. Учитывая это, мы также можем предположить, что за нами будут наблюдать. Это дает нам возможность осознавать себя во взаимодействии с другими и принимать другую точку зрения, сохраняя свою собственную, - наблюдать за собой, оставаясь собой. Я называю психическую свободу, которую дает этот процесс, триангулярным пространством.
"В этой главе мы сосредоточимся на этой особенности ее работы, сосредоточив внимание на ее концепции “способности к слушанию". В ней мы рассмотрим, насколько терапевту необходимо играть с интерпретацией, особенно с интерпретацией переноса, чтобы сделать ее более слышимой и, следовательно, более мыслимой. Основной тезис будет заключаться в том, что интерпретации предлагаются слишком охотно и решительно, и необходимо больше думать о том, какой должна быть дистанция и температура интерпретации, по терминологии Мельтцера (Meltzer, 1976). Если она будет слишком близкой или слишком горячей, она будет ошеломлять и восприниматься как травмирующая, а если она будет слишком далекой и холодной, то не окажет никакого воздействия на пациента. "Услышанность" (Alvarez, 1992) интерпретации будет рассмотрена в контексте работы с детьми и использования игровой техники.
Альварес последовательно рассматривает этот вопрос, ставя под сомнение традиционную кляйнианскую технику интерпретации - ранней, глубокой и направленной на область наиболее острой тревоги (см. Alvarez, 1985, 1988, 1992, 1996; Alvarez et al., 1999; Alvarez and Reid, 1999). Она подняла много вопросов о целесообразности скорости и типа интерпретации, который мы предлагаем нашим пациентам. Она утверждает, что некоторые дети не обладают достаточной силой эго, чтобы быть способными услышать и осмыслить свои тревоги, если давать им стандартные интерпретации. Ее опыт, как и мой, показывает, что у некоторых детей само упоминание о тревоге вызывает еще большую тревогу — это не открывает дверь к бессознательным констелляциям ни сейчас, ни в будущем. Кроме того, она считает, что аналитики рискуют слишком зациклиться на прошлом и настоящем и не уделять достаточно внимания будущему. Очевидно, что для детей эта "предвосхищающая" идентификация, как она ее называет (Alvarez, 1992), особенно важна. Это также влияет на стиль ее интерпретаций. Высказывание вроде "Ты переживаешь, что останешься один в выходные" сильно отличается от "Трудно поверить, что мы снова встретимся в понедельник". Здесь сосредоточенность на будущем помогает отдалиться от пугающего настоящего, а также укрепляет надежду. Альварес также играет с тревогой или модулирует ее, больше концентрируясь на потребности, стоящей за ней. Опять же, высказывание "Ты показываешь мне, как важно быть большим" дает больше пространства для мысли, чем основанная на тревоге интерпретация "Ты беспокоишься о том, что ты маленький". Такой способ интерпретации создает больше пространства между ребенком и его тревогами, в то же время признавая их существование. Это дает больше возможностей для игры, не отрицая при этом работу.
В недавнем "Симпозиуме по фрустрации" Альварес подкрепляет эту точку зрения, говоря: "Фрустрация способствует развитию мышления только тогда, когда она не выходит за пределы выносимого и мыслимого; в противном случае травма и отчаяние могут привести к диссоциации и когнитивным расстройствам" (Alvarez et a/., 1999: 184).
Идеи Альварес вытекают из долгой истории размышлений о том, когда, в каком объеме и каким образом мы должны совершать интерпретации. Начало можно найти в самых ранних формулировках Фрейда, опубликованных в 1895 году в “Проекте научной психологии” (Freud, 1895) и позже в “По ту сторону принципа удовольствия” (Freud, 1920). В этих работах он говорит, хотя и в биологических терминах, о необходимости защитного аппарата или экрана, чтобы система не перегружалась и не травмировалась. Выражаясь языком Фрейда, защитный экран гарантирует, что система не будет перевозбуждена "периодическими катексисами и декатексисами системы восприятия-сознания (perception—consciousness)" (Freud, 1920). То есть система просто берет образцы внешнего мира. Об этой выборке мира можно думать в терминах предоставления пациентам проб интерпретаций - не для того, чтобы дать всю дозу, а чтобы определить правильную дозировку. С детьми этого можно добиться, удерживая тревоги внутри игры.
Идея о том, чтобы не перегружать пациента, была использована Винникоттом в его концепции третьей области, промежуточного пространства, и в его акценте на игре. В книге “Использование объекта" (Winnicott, 1971) он подчеркивает, что младенец способен использовать мать в качестве объекта, чтобы чувствовать, что это он ее стимулирует/возбуждает (ercated), а не наоборот. Из этого первоначального всемогущества и последующего постепенного разочарования у младенца может развиться истинное чувство селф. Он отмечает, что переходный объект - это первое “не-я” владение младенца, а не его первый “не-я” "объект". Младенец должен ощущать свою причастность, так же как и пациент должен чувствовать, что он причастен к интерпретации и помог ее создать. Винникотт подчеркивает важность создания игрового пространства как для терапевта, так и для пациента. С этой позиции они могут найти интерпретацию, а не пациент почувствует, что она ему дана.
Цитируя Винникотта:
только в последние годы я стал способен терпеливо ждать естественной эволюции переноса, возникающей в результате растущего доверия пациента к психоаналитической технике и сеттингу, и избегать нарушения этого естественного процесса интерпретациями. Следует заметить, что я говорю о создании интерпретаций, а не об интерпретациях как таковых. Меня ужасает мысль о том, сколько глубоких изменений я предотвратил или отсрочил у пациентов определенной калегории из-за своей личной потребности в интерпретации. Если только мы сможем подождать, пациент придет к пониманию творчески и с огромной радостью, и теперь я наслаждаюсь этой радостью больше, чем раньше наслаждался ощущением того, что я умный. Я думаю, что интерпретирую главным образом для того, чтобы дать пациенту понять пределы моего понимания. Принцип заключается в том, что ответы есть у пациента и только у него.
(Винникотт, 1971: 101-102)
Модель контейнирования, предложенная Бионом, также полезна при рассмотрении вопроса о том, следует ли давать интерпретацию, а также о том, когда ее следует давать. Он подчеркивает взаимодействие между контейнером и контейнируемым и поднимает вопрос о том, как далеко должна пройти проекция, прежде чем ее можно будет считать безопасно изгнанной (Bion, 1962). Другая сторона этой модели, а именно функция контейнера, подчеркивает необходимость не только удерживать, но и вовремя подавать обратно детоксицированную проекцию. Недостаточное сдерживание тревоги из-за слишком быстрой интерпретации может привести к клиническим катастрофам, поскольку для пациента и терапевта не было создано безопасного пространства для игр.
Клинический пример этого процесса произошел с тринадцатилетним мальчиком, который сильно переживал по поводу своих гомосексуальных чувств. Такие чувства угрожали подавить его хрупкое представление о сексуальной идентичности, и от них пришлось отказаться. Во время терапии я чувствовал, что эти чувства проективно идентифицируются в меня, когда он обвинял меня в том, что я гребаный педик. Он презирал меня и воспринимал как ужасную угрозу. Он часто кричал: “Ты гребаный педик Блейк, я убью тебя”. Под таким натиском я отвечал, что понимаю, как он напуган своими гомосексуальными чувствами. Подобные интерпретации привели к тому, что я подвергся физическому нападению. Такие интерпретации не позволяли ему чувствовать, что его импульсы надежно приютились во мне. Оглядываясь назад, можно сказать, что интерпретация, называющая тревогу так, как он ее испытывал, - то есть что гомосексуалист находится во мне и представляет собой ужасную угрозу для него, - была бы более полезной, или, возможно, лучше было бы вообще не интерпретировать, а подумать о его ужасе от ощущения такого нападения.
Еще одним фактором, повлиявшим на понимание интерпретации, стала практика наблюдения за младенцами (Miller et al., 1989). Возможно, больше, чем любой другой опыт, это привело к более глубокому осознанию терапевтической ценности вдумчивого наблюдения и поставило вопрос о том, всегда ли необходимо интерпретировать. Может ли быть терапевтическое изменение без интерпретации, конечно, мы все знаем, что может. Возможно мы интерпретируем слишком много? Может быть, разумное использование роли “внимательной аудитории” иногда более уместно? Дает ли это больше пространства нашим пациентам, а также позволяет ли им чувствовать, что они создают пьесу — что это их творение, а не наше?
О том, как долго интерпретация должна удерживаться в сознании терапевта и не передаваться пациенту, мы можем узнать, обратившись к тому, что нам известно из младенческого опыта удержания и вскармливания. Дилис Доус в своей статье "Опасности близости? (Daws, 1997) рассказывает об опасности слишком близкого контакта в ситуации кормления. Для некоторых младенцев близость может восприниматься как травмирующее вторжение. Обсуждая, как нужно держать младенца на руках, она отмечает: ”Установление дистанции может быть решающим способом управления эмоциональными проблемами" (Daws, 1997: 180). Из наблюдений за младенцами мы знаем, что увеличение расстояния между матерью и ребенком в период отлучения от груди парадоксальным образом может позволить некоторым кормящим парам быть более близкими (Блейк, 1988; Доус, 1997; Люббе, 1996). Кроме того, увеличенное расстояние в это время способствует развитию у ребенка способности к символизации и игре.
Предоставление игрового пространства в клинической обстановке для общения с пациентом, вместо того чтобы давать прямую интерпретацию, показано в работе Пола и Томсон-Сало с матерями и их младенцами (Paul and Thomson- Salo, 1997). Они отмечают, что изначально были озадачены тем, почему они не давали много интерпретаций переноса, но затем пришли к выводу, что их вдумчивое использование проекций матерей и младенцев позволило матерям “найти ответы внутри себя”.
Столетие назад психоанализ почувствовал, что должен найти ответы на эти вопросы. Ранние терапевтические амбиции Фрейда (Freud, 1895) привели к решительным интерпретациям. Более глубокое понимание сложности психики и хрупкости терапевтических отношений привело к большей чувствительности в использовании интерпретаций. Работа Альварес с аутичными, пограничными и депривированными детьми и ее фокус на том, что может быть услышанным и обдуманным, продолжает оттачивать аналитическую технику. Ее работа, наряду с работой других клиницистов, таких как Винникотт (1971), Кейсмент (1985), Клаубер (1986), Розенфельд (1987), Ломас (1987), Джозеф (1989), Стайнер (1993) и Бриттон (1998), заставили терапевтов задуматься о том, следует ли им давать интерпретацию, и если да, то должна ли она включать перенос? В какой степени интерпретация должна быть сосредоточена на процессе или содержании? Должна ли она быть клиент- или пациент- центрированной? Должна ли она концентрироваться на потребности или тревоге? Как много интерпретаций следует дать? Можно ли смягчить ее так, чтобы сказать о тревогах, но не переполнить?
Эта проблема попала в поле моего внимания несколько лет назад, когда я наблюдал восьмилетнего мальчика по имени Стивен. Его направили в психотерапию из-за агрессивного поведения дома и в школе. Он был единственным ребенком богатой пожилой пары. Его мать страдала от депрессии после его рождения, и оба родителя сказали, что считают себя слишком старыми, чтобы играть с ним. После нескольких месяцев терапии я почувствовал, что процесс полностью заблокирован. Его сеансы были полны презрения к любой моей интерпретации. Он казался мне трудным, почти психопатичным ребенком, и я боролся с чувством неприязни к нему. Однако за один сеанс все изменилось довольно кардинально. На этом сеансе он начал играть с шариком из пластилина. Он привязал к мячу бечевку и начал размахивать ею. Затем он забросил мяч на высокий выступ, как будто ловил рыбу. Он опускал мяч и осматривал скопившуюся на нем пыль. Он проделал это несколько раз. Через некоторое время я обнаружил, что участвую в игре и выступаю в роли пылинки. Довольно высоким голосом я рассказал о том, что меня выгнали из моего дома, что я хотел бы остаться с остальными членами моей семьи пылинок. В отличие от всех других попыток коммуникации, к этой Стивен прислушался. В самом деле, казалось, он получал от этого искреннее удовольствие, а не саркастическое или насмешливое. В то время я не был уверен, почему я говорю в такой манере и почему говорю именно эти вещи. Это чувствовалось гораздо более спонтанно и живо, чем озвучивание переработанной контрпереносной реакции. Стивен продолжал играть с пластилином и через некоторое время спрашивал меня: “Что он теперь говорит?" Что было самым замечательным, так это перемена в Стивене. Он задавал эти вопросы, как маленький ребенок, одновременно наслаждаясь игрой и проявляя любопытство. Насмешливый, высокомерный псевдовзрослый тон в нем исчез. Далее я обнаружил, что во мне произошла перемена. Оказавшись в роли пылинки, я начал говорить о том, что я всего лишь пылинка, такая маленькая, такая никчемная и такая нежеланная. Говоря это, я начал понимать, сколько уязвимости и боли скрывалось за его жестким, надменным "я". Пока я не начал говорить таким образом, я этого не понимал. Я обнаружил в игре, и я не уверен, была ли это его игра или моя, ту сторону Стивена, которая оставалась скрытой от нас обоих.
После нескольких сеансов участия в игре, а не ее интерпретации или, возможно, более точной интерпретации в игре, стало ясно, насколько Стивену понравилось, как я играю с ним, и мне это тоже понравилось. Теперь мы оба были полны возбуждения и энергии, пока он продолжал играть, и я задавался вопросом, что бы я мог сказать этим высоким голосом. Теперь мы были живой парой. Обычно в игре я говорил о какой-либо форме беспокойства или вины, например: “О, что сейчас происходит, я не знаю, когда снова увижу свою семью”. (После этой сессии я обнаружил, что ему угрожала отправка в школу-интернат). Чаще всего я обнаруживал, что играю роль пассивного персонажа, того, с кем что-то делают, хотя были моменты, когда я говорил от имени того, кто совершает действие (например, я становился машиной, сбивающей животное, а не животным, которое сбивают). Иногда я высказывался от имени обеих сторон процесса. Я никогда не был уверен, что именно определяет, с каким персонажем я буду себя идентифицировать, хотя я подозреваю или, возможно, надеюсь, что я улавливал послание от Стивена по этому поводу. Что было ясно, так это то, что я всегда был активен. В его игре особенно подчеркивались глаголы. Участие в игре давало мне свободу называть действия, а не быть слишком обеспокоенным тем, кто и что с кем делает. Легкость проекции в игре уменьшает это различие между субъектом и объектом. Проекции могут перемещаться в игре.
Я полагаю, что это изменение в технике сработало со Стивеном по нескольким причинам. Учитывая его историю жизни с матерью, находящейся в депрессии, то, что он не играл со взрослыми и не был окружен ими, мои “формальные” интерпретации, которые я давал с позиции наблюдателя, воспринимались как слишком далекие. Он ненавидел это расстояние. В другое время мои интерпретации воспринимались как критические и принижающие. В такие моменты он в ответ унижал меня своим презрением. Мое участие в игре позволило нам быть вместе в этом третьем – промежуточном - пространстве. В этом, несомненно, был элемент удовольствия для нас обоих. Все ощущалось не таким серьезным. Игра нейтрализовала интенсивность переживаний. Она не была слишком близкой, поэтому ее можно было не отрицать и не атаковать. Это также позволило Стивену почувствовать, что его материал и он сам могут быть источником веселья и удовольствия. Я воспринимал и относился к его дарам как к драгоценности. Я всегда заботился о том, чтобы не руководить его игрой. Я сознательно старался придерживаться материала, который он мне давал, хотя, участвуя в игре, терапевт открывает для себя гораздо больше уровней общения с ребенком. Когда я развивал его темы, мне все равно казалось, что я расширяю то, что было в первую очередь его творением. Особенно для детей, которые так привыкли к тому, что их учат взрослые, интерпретация может легко восприниматься как создание терапевта. Хотя всегда есть риск взять игру на себя, я думаю, что детские терапевты стали слишком осторожны в этой области и, наоборот, рискуют потерять связь с ребенком внутри себя или стать слишком взрослыми.
Такая техника включения в игру является одним из способов регулировать дистанцию и температуру между терапевтом и пациентом. С одной стороны, это отвлекает и терапевта, и ребенка от прямого контакта друг с другом, но с другой стороны, это может позволить им быть очень близкими в безопасной игровой обстановке. Даже когда я не участвую в игре, а просто думаю о ней, я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, каково было бы быть этим листком бумаги, который рвут, или куском веревки, за которую дергают. Я нахожу, что это помогает мне настроиться на ребенка.
Участие в игре также снижает накал переноса. Во время игры я не делаю никаких указаний на перенос. Это не значит, что я не принимаю во внимание перенос, но работаю в нем, а не над ним.
По моему опыту, участие в игре особенно полезно для детей младше пяти лет. Это также может быть полезно для некоторых обсессивных детей, которые не очень сильно боятся эмоций. Они могут наслаждаться своей игрой, когда терапевт придает ей эмоциональность, но при этом оставаться в состоянии дистанцироваться от нее.
Вместо того чтобы участвовать в игре, терапевт может еще больше ослабить тревогу, комментируя чувства, которые могут быть в ней заложены. Приведем пример из повседневной жизни: ребенок режет пластилин: возможный комментарий: "Если бы я был пластилином, я бы чувствовал себя кусочками", или чуть более игривый: "Я думаю, что пластилин чувствует себя разбитым по кусочкам". Интересно отметить, что даже сама Мелани Кляйн, которая так ратовала за интерпритацию, близка к этой идее в своем случае с Рут. Эта четырехлетняя девочка страшно боялась оставаться одна в комнате с Кляйн и некоторое время входила туда только со своей старшей сестрой. При таком уровнем дистресса Кляйн решила интерпретировать через игру. Я цитирую:
Все это время я начинала с того, что применяла свои интерпретации к кукле - показывала ей, когда играла с ней, что она боится и кричит, и объясняла причину, - а затем повторяла интерпретации, которые давала кукле, применяя их к ней самой. Таким образом, я определила аналитическую ситуацию во всей ее полноте.
(Кляйн, 1932: 28)
Теперь у меня возникли бы сомнения в необходимости или скорости применения таких интерпретаций к ее персоне.
Для некоторых детей даже комментирование своих чувств в игре может оказаться чрезмерным. Здесь более “техническое” или реальное обсуждение может быть настолько близким, насколько это позволит ребенок. Продолжая пример с пластилином, можно сказать, что обсуждение того, как изготавливается пластилин или с какой легкостью его можно разрезать и отделить друг от друга, может быть таким же жарким, как и интерпретации этого. Я провел много сессий, рассказывая о таких вещах, как технические детали тормозов и передач на велосипедах, как работает вулкан, жизнь рака-отшельника и так далее. По-видимому, это особенно верно в отношении детей латентного возраста и подростков. В этой ситуации терапевт должен быть способен выдерживать эту дистанцию — сдерживать свои собственные терапевтические амбиции. Сохранять веру в то, что можно думать о тревогах в символической форме, без какого-либо явного терапевтического сопровождения или вмешательства, может быть чрезвычайно трудно, особенно если ребенок посещает терапевта раз в неделю, и еще труднее в частной практике, когда речь идет об оплате.
По моему опыту, есть небольшая группа детей, которые не выносят даже безопасных и не-вторгающихся комментариев: спросить о пластилине или шестеренках на велосипеде было бы чересчур. Любой комментарий может показаться вторжением, но такие дети, похоже, с удовольствием рисуют или рассказывают вам о школе, музыке, спорте и так далее. По-видимому, это наиболее распространено в группе ранних подростков, в возрасте от 12 до 14 лет. Здесь тревоги кажутся настолько сырыми и сильными, что даже прикосновение к ним на символическом уровне оказывается слишком сильным (Waddell, 1993).
Дэвид был двенадцатилетним мальчиком, с которым мы встречались три раза в неделю в течение четырех лет. В течение первых двух лет терапии он заполнял сеансы драматическими рассказами о фильмах, телешоу, поп-звездах и так далее. Если я пытался задавать какие-либо вопросы или делать замечания, он либо игнорировал их, либо вежливо просил меня заткнуться. Обычно после какого-нибудь моего замечания его материал ускорялся еще больше. Он терпеть не мог, когда ему мешали, и каждую песню или историю должен был закончить без перерыва. На одном из сеансов, после того как я прокомментировал что-то, он сказал: “Думайте внутри, а не снаружи”. Я чувствовал, что он хочет, чтобы я думал, что я должен быть чем-то большим, чем просто туалетная грудь (Meltzer, 1967), но я определенно не должен был быть кормящей грудью. Первые два года я чувствовал, что мне нужно быть его аудиторией, но я думаю, что одного этого было бы недостаточно. Ему нужна была думающая аудитория, и когда это произошло, его анализ продолжился во мне. Интерпретации или даже интерпретативная деятельность (вопросы, комментарии) были неуместны. Мне буквально пришлось заткнуться и подумать. На большинстве сеансов он ничего не говорил. (Должен сказать, что мне было приятно слышать, что его поведение за пределами сеансов улучшалось.) Важное различие, которое Стайнер проводил между пониманием и тем, чтобы быть понятым (Steiner, 1993), помогает поддерживать эту “мыслящую аудиторию”.
Дэвид происходил из непростой среды. Как и у Стивена, у его матери была депрессия и ранний отказ от ребенка, и я чувствовал, что с ним не играли в раннем возрасте. Однако мои попытки поиграть с ним казались мне вторжением и отрицанием его самого. Его чувство селф было очень хрупким, и это ощущение хрупкости усилилось в ранний подростковый период. Я чувствовал, что он показывает мне, что ему нужно дать играть самому. Я должен был стать свидетелем и ценителем этой пьесы, чтобы она была подлинной, чтобы она действительно была его. Мой комментарий, каким бы полезным он ни был, не позволял его мыслям стать полностью его собственными. Я помню, как думала про себя, что неважно, насколько безумны или запутаны эти мысли, - они его. Моя попытка преждевременно модифицировать их лишала их самой сути.
В течение этих двух лет у меня были периоды, когда я с трудом удерживался в роли думающей аудитории. Был ли я слишком мягок, слишком пассивен, вступал ли я в сговор, не конфронтируя его тревоги? На третьем году терапии ситуация начала меняться. Его истории становились все более понятными, как в их изложении, так и в символическом содержании. Они также стали более четко соотноситься с ним самим, хотя по-прежнему оставались символическими. Часто он пел такие песни, как “Я никогда не хочу чувствовать себя так, как в тот день, когда я пошел туда один” группы Red Hot Chilli Peppers и “Это наше последнее прощание’ Джеффа Бакли. В это время он говорил: “Это не обо мне“. Мы оба знали, что это так. Я просто смотрел и улыбался. ‘Терапия получила дальнейшее развитие, когда после песни или рассказа он проводил то, что он называл ‘периодом размышлений”, рассказывая мне, о чем, по его мнению, шла речь. Вскоре после этого он спрашивал о моем отражении. После этого наступил период, когда он очень заинтересовался психологией, особенно Фрейдом. Однажды он спросил меня: “Это все от него?” Теперь, когда он что-то делал, он сам интерпретировал это, говоря, что это то, что сказал бы по этому поводу психиатр. Я почувствовал, что теперь можно думать о чем-то постороннем, и именно после этого этапа терапии можно было признать и обсудить мысли и переживания по поводу наших отношений. Он не позволил мне самому собрать перенос (Meltzer, 1967), мне пришлось ждать этого.
Если проанализировать мой опыт работы в качестве мыслящего зрителя для Дэвида и в игре со Стивеном, то становится ясно, что в обоих случаях формальное взаимодействие переживалось как навязчивое и травмирующее. Мне приходилось бороться за то, чтобы найти способ сделать интерпретации слышимыми, чтобы мысли между нами в конце концов стали переносимыми. Размышляя над этой клинической трудностью, идея Бриттона о триангулярном пространстве оказалась чрезвычайно полезной. В книге "Вера и воображение" (Britton, 1998) он связывает эту идею с субъективностью и объективностью. Он предполагает, что в самые трудные периоды развития мать и младенец находятся в единстве друг с другом, и между ними существует только субъективность. С появлением осознания “другого" (которое он связывает с самой ранней эдиповой ситуацией) появляется способность к развитию триангулярного пространства. Цитируя Бриттона:
Если в сознании ребенка связь между родителями, проявляющаяся в любви и ненависти, может восприниматься терпимо, это дает ему прототип объектных отношений третьего рода, в которых он или она является свидетелем, а не участником. Затем возникает третья позиция, с которой можно наблюдать объектные отношения. Учитывая это, мы также можем предположить, что за нами будут наблюдать. Это дает нам возможность осознавать себя во взаимодействии с другими и принимать другую точку зрения, сохраняя свою собственную, - наблюдать за собой, оставаясь собой. Я называю психическую свободу, которую дает этот процесс, триангулярным пространством.
(Бриттон, 1998: 41-42).
Хотя это движение от двоих к троим очень важно, оно может быть очень трудным, если не была установлена четкая взаимосвязь между двумя. Для Дэвида и Стивена ранние отношения с их депрессивными матерями (и невовлеченными отцами) не позволили им почувствовать себя в безопасности в этом мире единства друг с другом. Как таковой другой, или объективный факт, представляет собой страшную угрозу. В терапии это было представлено любой интерпретацией, которая воспринималась как свидетельство инаковости. Временами интерпретации также переживались как некая публичная демонстрация ментального совокупления идей, как спаривание моих наблюдений с моим мышлением. Поделиться с ними своими мыслями о том, что они, возможно, чувствуют, было все равно что установить дистанцию между нами. Я скорее отходил в сторону и “наблюдал” за нашим взаимодействием, чем оставался в нем. С этой позиции они чувствовали себя исключенными и вынужденными наблюдателями. Бриттон развивает работу Розенфельда о толстокожих и тонкокожих пациентах, обсуждая эту клиническую дилемму: как давать интерпретацию тому, кто воспринимает интерпретацию как посягательство на само свое существование. Бриттон говорит:
Единственный обнаруженный мной способ найти место для размышлений, которое было бы полезным, а не разрушительным, состоял в том, чтобы позволить моему собственному опыту эволюционировать внутри меня и четко формулировать это для себя, сообщая пациентам свое понимание их точки зрения. Я обнаружил, что это действительно расширяет возможности мышления.
Этот особый тип мышления очень близок к тому, что я называю думающей аудиторией. Когда речь идет о мыслящей аудитории, безусловно, есть свидетельства того, что думает "другой", но он лишь смутно присутствует рядом с мыслями пациента и поэтому не воспринимается как вторгающаяся опасность. Я думаю, что техника включения в игру приближается к субъективному опыту ребенка, но она часто не переживается как полностью исходящая от другого и поэтому может быть более приемлемой. Это не движение к троим, но есть небольшой сдвиг от двоих; возможно, это позиция два с четвертью! Мой клинический опыт подсказывает, что это небольшое движение в сторону признания другого может в конечном счете привести к принятию триангулярного пространства. В случае с Дэвидом я убедился в этом.
В заключение я хотел бы поразмышлять над вопросом слышимости интерпретации по отношению к переносу, поскольку ни одна интерпретация не является более близкой или горячей, чем та, которая имеет дело с непосредственными отношениями между терапевтом и ребенком.
В начале обучения терапевтов учат первостепенной роли переноса (Rosenbluth, 1970). Хотя дуальные вопросы о том, что беспокоит ребенка и как эти тревоги проявляются в наших отношениях, очень полезны в кабинете, существует опасность чрезмерного акцентирования внимания на использовании переноса. Еще в 1934 году Стрейчи напомнил нам, что интерпретация переноса - это то, что приводит к изменениям. То есть это приводит к реальному структурному изменению личности; такая интерпретация мутативная. Но он также отмечает, сравнивая интерпретацию переноса с фруктами в фруктовом торте, что фруктовый торт нуждается не только в фруктах. Я хотел бы пойти дальше и сказать, что могут быть такие торты, которые обладают высокой питательностью и не содержат фруктов.
Эта настоятельная необходимость интерпретации переноса (особенно пропагандируемая ранними кляйнианцами) может притупить чувствительность аналитика к тому, какой уровень близости является наиболее подходящим для конкретного пациента. Как и другие интерпретации, интерпретации переноса необходимы. с ними могут играть как терапевт, так и пациент. Очевидно, что интерпретация переноса может быть чрезвычайно полезной, если она понятна пациенту. Но что, если это не так?
Этот вопрос поднимает важное различие между работой “с переносом” и “в переносе” (Rustin, 1982). Работа "в" переносе - это когда чувства, испытываемые пациентом, принимаются и соотносятся с отношениями терапевта и пациента, или помещаются в них. Терапевт непосредственно ссылается на перенос. Работа "с" переносом не приводит к такой прямой отсылке и как таковая может быть использована, когда терапевт чувствует, что перенос слишком горяч или тесный. В этой ситуации терапевт осознает факт переноса, но не говорит об этом пациенту. Скорее, это осознание используется для того, чтобы направлять терапевта, помогать ему или ей подчеркнуть это чувство, поскольку оно может возникнуть в других отношениях. Например, терапевт может чувствовать, что ребенок расстроен, увидев терапевта с другим ребенком, но чувствует, что ребенок не в состоянии услышать об этом чувстве по отношению к терапевту. Это, однако, предупреждает терапевта о проблеме ревности, так что эту проблему можно искать в игре или в других отношениях (например, ревность ребенка к младшему брату), а также подчеркивать ее в любой дискуссии (“ты действительно очень ревнуешь к своему брату”).. Работа “с переносом” чаще всего применяется в краткосрочной работе, но также может использоваться для ослабления или отдаления переноса, когда это кажется необходимым. Это происходит не только в ситуациях, когда перенос кажется слишком жарким, но и когда он может быть слишком холодным. В это время ребенок еще очень далек от того, чтобы осознанно испытывать эти чувства по отношению к терапевту. Это может легко произойти с детьми, которые посещают сеансы раз в неделю. С переносом можно играть и другими способами. Один из способов смягчить его - упоминать в контексте других отношений. Это, как правило, смягчает воздействие. Например, “Сегодня ты чувствуешь, что тебя подвела твоя школа, твоя мама и я”. Другой прием заключается в том, чтобы оставить перенос в воздухе — отметить динамику, но не связывать ее ни с кем и ни с чем. Используя приведенный выше пример разочарования, можно было бы сказать: “Быть разочарованным ужасно”. Обычно в такой ситуации я бы говорил в пустоту. Говоря это, я бы не смотрел на ребенка, и тон моего голоса был бы неопределенным. Это позволяет подхватить такое сообщение или оставить его в покое.
В этой главе я сосредоточился на идее Альварес о том, что интерпретация должна быть услышанной (hearability). Я подчеркнул важность регулирования температуры или расстояния интерпретации, а также того, когда и как давать ее ребенку. Игра как пространство третьего может стать важным посредником или ничейной территорией, на которой можно безопасно исследовать свои тревоги. Однако следует вкратце отметить, что такое безопасное место можно использовать как убежище или как то, что я описал в другом месте как “опасная безопасность игры” (Блейк, 1997b). Этот тип игры сильно отличается по качеству от той игривости, которую я описывал в этой главе. Это не похоже на живое исследование; скорее, возникает ощущение, что ребенок теряет себя в игре.
В заключение я хотел бы отметить, что детский психотерапевт на сегодняшний день является одним из наиболее высококвалифицированных работников в области охраны психического здоровья детей. Годы чтения, наблюдения за младенцами, супервизии и личностного анализа помогают развить глубокое понимание психики ребенка, аналогов которому нет ни в одной другой области педиатрии. Хотя такой уровень внимательности и чувствительности в наблюдениях имеет важное значение, он должен сопровождаться таким же глубоким пониманием того, что делать с такими наблюдениями. Работа по наблюдению должна сочетаться с интерпретацией.
Единственный обнаруженный мной способ найти место для размышлений, которое было бы полезным, а не разрушительным, состоял в том, чтобы позволить моему собственному опыту эволюционировать внутри меня и четко формулировать это для себя, сообщая пациентам свое понимание их точки зрения. Я обнаружил, что это действительно расширяет возможности мышления.
(Бриттон 1998: 42)
Этот особый тип мышления очень близок к тому, что я называю думающей аудиторией. Когда речь идет о мыслящей аудитории, безусловно, есть свидетельства того, что думает "другой", но он лишь смутно присутствует рядом с мыслями пациента и поэтому не воспринимается как вторгающаяся опасность. Я думаю, что техника включения в игру приближается к субъективному опыту ребенка, но она часто не переживается как полностью исходящая от другого и поэтому может быть более приемлемой. Это не движение к троим, но есть небольшой сдвиг от двоих; возможно, это позиция два с четвертью! Мой клинический опыт подсказывает, что это небольшое движение в сторону признания другого может в конечном счете привести к принятию триангулярного пространства. В случае с Дэвидом я убедился в этом.
В заключение я хотел бы поразмышлять над вопросом слышимости интерпретации по отношению к переносу, поскольку ни одна интерпретация не является более близкой или горячей, чем та, которая имеет дело с непосредственными отношениями между терапевтом и ребенком.
В начале обучения терапевтов учат первостепенной роли переноса (Rosenbluth, 1970). Хотя дуальные вопросы о том, что беспокоит ребенка и как эти тревоги проявляются в наших отношениях, очень полезны в кабинете, существует опасность чрезмерного акцентирования внимания на использовании переноса. Еще в 1934 году Стрейчи напомнил нам, что интерпретация переноса - это то, что приводит к изменениям. То есть это приводит к реальному структурному изменению личности; такая интерпретация мутативная. Но он также отмечает, сравнивая интерпретацию переноса с фруктами в фруктовом торте, что фруктовый торт нуждается не только в фруктах. Я хотел бы пойти дальше и сказать, что могут быть такие торты, которые обладают высокой питательностью и не содержат фруктов.
Эта настоятельная необходимость интерпретации переноса (особенно пропагандируемая ранними кляйнианцами) может притупить чувствительность аналитика к тому, какой уровень близости является наиболее подходящим для конкретного пациента. Как и другие интерпретации, интерпретации переноса необходимы. с ними могут играть как терапевт, так и пациент. Очевидно, что интерпретация переноса может быть чрезвычайно полезной, если она понятна пациенту. Но что, если это не так?
Этот вопрос поднимает важное различие между работой “с переносом” и “в переносе” (Rustin, 1982). Работа "в" переносе - это когда чувства, испытываемые пациентом, принимаются и соотносятся с отношениями терапевта и пациента, или помещаются в них. Терапевт непосредственно ссылается на перенос. Работа "с" переносом не приводит к такой прямой отсылке и как таковая может быть использована, когда терапевт чувствует, что перенос слишком горяч или тесный. В этой ситуации терапевт осознает факт переноса, но не говорит об этом пациенту. Скорее, это осознание используется для того, чтобы направлять терапевта, помогать ему или ей подчеркнуть это чувство, поскольку оно может возникнуть в других отношениях. Например, терапевт может чувствовать, что ребенок расстроен, увидев терапевта с другим ребенком, но чувствует, что ребенок не в состоянии услышать об этом чувстве по отношению к терапевту. Это, однако, предупреждает терапевта о проблеме ревности, так что эту проблему можно искать в игре или в других отношениях (например, ревность ребенка к младшему брату), а также подчеркивать ее в любой дискуссии (“ты действительно очень ревнуешь к своему брату”).. Работа “с переносом” чаще всего применяется в краткосрочной работе, но также может использоваться для ослабления или отдаления переноса, когда это кажется необходимым. Это происходит не только в ситуациях, когда перенос кажется слишком жарким, но и когда он может быть слишком холодным. В это время ребенок еще очень далек от того, чтобы осознанно испытывать эти чувства по отношению к терапевту. Это может легко произойти с детьми, которые посещают сеансы раз в неделю. С переносом можно играть и другими способами. Один из способов смягчить его - упоминать в контексте других отношений. Это, как правило, смягчает воздействие. Например, “Сегодня ты чувствуешь, что тебя подвела твоя школа, твоя мама и я”. Другой прием заключается в том, чтобы оставить перенос в воздухе — отметить динамику, но не связывать ее ни с кем и ни с чем. Используя приведенный выше пример разочарования, можно было бы сказать: “Быть разочарованным ужасно”. Обычно в такой ситуации я бы говорил в пустоту. Говоря это, я бы не смотрел на ребенка, и тон моего голоса был бы неопределенным. Это позволяет подхватить такое сообщение или оставить его в покое.
В этой главе я сосредоточился на идее Альварес о том, что интерпретация должна быть услышанной (hearability). Я подчеркнул важность регулирования температуры или расстояния интерпретации, а также того, когда и как давать ее ребенку. Игра как пространство третьего может стать важным посредником или ничейной территорией, на которой можно безопасно исследовать свои тревоги. Однако следует вкратце отметить, что такое безопасное место можно использовать как убежище или как то, что я описал в другом месте как “опасная безопасность игры” (Блейк, 1997b). Этот тип игры сильно отличается по качеству от той игривости, которую я описывал в этой главе. Это не похоже на живое исследование; скорее, возникает ощущение, что ребенок теряет себя в игре.
В заключение я хотел бы отметить, что детский психотерапевт на сегодняшний день является одним из наиболее высококвалифицированных работников в области охраны психического здоровья детей. Годы чтения, наблюдения за младенцами, супервизии и личностного анализа помогают развить глубокое понимание психики ребенка, аналогов которому нет ни в одной другой области педиатрии. Хотя такой уровень внимательности и чувствительности в наблюдениях имеет важное значение, он должен сопровождаться таким же глубоким пониманием того, что делать с такими наблюдениями. Работа по наблюдению должна сочетаться с интерпретацией.